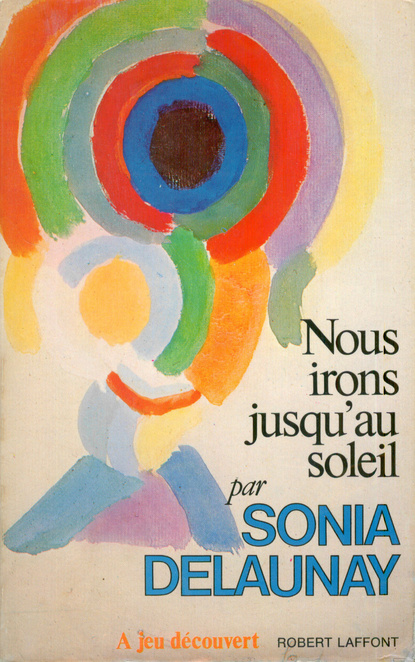«Искусство – самое непосредственное послание в будущее». Матвей Вайсберг и Ольга Балашова о «(Не)возможности дефиниций» в проекте «Дискусионная платформа»
30 сентября в Мыстецком Арсенале состоялась первая встреча на «Дискуссионной платформе» в рамках Х Форума художественных проектов ART KYIV Contemporary. Художник Матвей Вейсберг и искусствовед Ольга Балашова поговорили на тему «(Не)возможность дефиниций». Где начинается искусство? Что содержат в себе «неподвижные картинки»? Почему для современного искусства нужно придумать другое слово? Об этом – в расшифровке дискуссии, которую специально для ART UKRAINE подготовила координатор проекта Дарина Николенко.

Здесь и далее на фото – дискуссия Ольги Балашовой и Матвея Вайсберга. Автор снимков – Кирилл Гайдай-Роскошный
Матвей Вайсберг: У нас когда-то была такая группа. Не группа, но есть такой Андрей Мокроусов – он тогда был арт-критиком, сейчас он возглавляет издательство «Критика»; я думаю, это самый такой академичный хороший украиноязычный и не только журнал, по качеству. И вот мы когда-то себя объявили арьергардом, в каком-то смысле, как некая уходящая роль, как некие люди, которые собираются хранить или охранять какие-то, условно говоря, базовые ценности – гуманистически направленными, антропоцентристскими, фигуративными. То есть некоторые позиции не то чтобы устарели, они требуют некоего дополнения. Но, конечно, я после этого не ходил и не говорил, что представляю арьергард.
Ольга Балашова: Это своего рода манифест?
М. В.: Да. Это была такая декларация, которую не очень заметили.
О. Б.: Когда это было?
М. В.: Это была середина или даже начало 90-х годов. На самом деле я очень глубокий андеграунд. Вот как не странно, да? Я получил и среднее и высшее художественное образование, но так сложилась моя судьба, я ей за это благодарен. Что, скажем, какую-то часть своей жизни я был уличным художником. Началось с Андреевского спуска, только вы напрасно улыбаетесь, потому что Андреевский спуск тогда был единственным местом, где мы могли заявить о своем существовании. Наряду, скажем, с Одесским Горсадом, Пале Роялем, московским Новым Арбатом.
О. Б.: Это еще в 80-х?
М. В.: Это конец 80-х–начало 90-хх. Для меня главный сезон состоялся в 87 году в Одессе в Горсаду, где я встретил очень важных для себя людей, художников. Это была ситуация, которую можно для себя сравнить с ситуацией Парижской школы. В каком-то смысле Модильяни, Сутин, Морис Трилло были уличными художниками. Был героический период. То есть они были такими себе бульвардье…
О. Б.: Да, но это было в начале ХХ века, а вы говорите о конце ХХ века…И ситуация…
М. В.: А ситуация, понимаете…Мы же жили в ситуации такого себе замедленного, что ли, развития. Я помню, еще когда я учился в РХСШ, нам не очень выдавали в библиотеке импрессионистов…Нас учили академически. Не говоря уже о том, что сведения о кубистах мы черпали из книг о буржуазном модернизме, сквозь строки, понимаете? Это сейчас я кучу мировых музеев посетил в своей жизни. Последний был Прада, два года назад. А тогда…Как там у Маяковского?
«Мы открывали Маркса каждый том,
как в доме собственном мы открываем ставни,
но и без чтения мы разбирались в том,
в каком идти, в каком сражаться стане».
Мы хорошо знали «в каком идти, в каком сражаться стане». И вот эта вот ситуация, богемная, уличная, она чрезвычайно интересна.
Вот этот вопрос, который вы задали: «Ты кто?». «Ты где?» – спросил Бог у Авраама. Не «кто», а «где». «Здесь я», - ответил Авраам. Так вот я здесь. Я здесь, и я был там. Меня немножечко всегда смущает, когда рисуют такую парадигму развития украинского искусства последних 30-ти лет, и я вот вроде бы существую. Я вам благодарен за этот, может быть, комплемент, что я в украинском искусстве где-то есть. Скажем так, условно говоря. Это безумно интересно, и я надеюсь об этом, в свое время, будут писать книги. Вы знаете, как мы в свое время собирали и рассказывали друг другу о похождениях Модильяни, Сутина и т. д. Потому что искусство возникало не только в среде институциональной, как то Союз художников. Я могу сказать, что я до сих пор не член Союза. Я им стану посмертно, но я заранее отказываюсь от этого права (смех в зале). У меня такая позиция. Я профессиональный художник в том смысле, что я зарабатываю тем, что я делаю.

Матвей Вайсберг
О. Б.: То, что вы рассказываете, похоже на такое продолжение нонконформистской традиции или традиции андеграундного искусства, которое существовало в Советском Союзе, только уже без официоза. То есть это как продолжение этой логики, но в условиях, когда это уже не настольно необходимо в независимой Украине.
М. В.: Давайте не сразу будем говорить не о независимой Украине, потому что начал я говорить все же о периоде еще до независимой Украины. Начали мы в конце 80-х, и меня никто никуда не звал и нигде не ждал. Реальность тогда диктовала свои условия. Чтобы выставиться на Андреевском спуске, ты должен был пройти худсовет в Доме художников, даже не будучи членом Союза художников.
О. Б.: Ничего себе…
М. В.: Да. Так что, понимаете, конформизм существует всегда, в том или ином виде. То есть конформизм, в первую очередь, происходит по отношению к искусству, по отношению к своей позиции в искусстве. И поэтому нонконформизму есть место всегда – как по мне, искусство без него вообще не произрастает.
О. Б.: Меня интересует, как вы чувствовали это пространство? Можно ли сказать, что когда вы начинали, вы были настроены в ноте протеста или пытались отмежеваться от какой-то официальной истории или…?
М. В.: Мы не были диссидентами в прямом смысле слова. Но мы были опасны фактом своего существования.
О. Б.: Конечно. И как вы определяли себя на территории искусства, которая существовала, когда вы формировались?
М. В.: Знаете, мы же не рассказывали друг другу анекдоты из жизни академика Герасимова, хотя иногда он тоже бывал остроумен. Говорил: «Искусство – это как генерал в бане». Говорил «генерал от искусства» академик Герасимов. Но в основном мы рассказывали байки, как, например, Сутин писал разложившееся мясо или как Татлин пошел позировать Пикассо. Вот это наша была мифология. Или, во всяком случае, моя.
О. Б.: А художники, которые вас окружали, – например, из круга советских нонконформистов, – они были вам интересны?
М. В.: Конечно. Самое главное, что я обрел за это время – это живых людей. Вы понимаете, ситуация здесь была намного хуже, чем в тогдашней Москве. Було таке «тихе болото». Хотя были художники замечательные просто. Но это было все очень секторально. Я вот жалею, что в силу возраста не попал в круг замечательного киевского писателя Виктора Некрасова. Или что не довелось с самим Параджановым пообщаться. Хотя все это рядом было. Мы ничье знамя не подхватывали. Если это так выглядит, то хорошо. И если даже и подхватывали, то мы не собирались этого делать, мы не отдавали себе в этом отчет. Мы хотели рисовать.
О. Б.: Вы не могли подхватить это знамя потому, что у них тоже не было этого знамени.
М. В.: Может и так. Но, понимаете…Мы небо штурмовали.
О. Б.: Что это значит?
М. В.: Это значит, что мы хотели искусство делать без всяких там расшаркиваний и экивоков на Союз художников и т. д.

Ольга Балашова
О. Б.: Все-таки когда уже произошло падение Союза и более или менее информационное поле так или иначе насытилось информацией о том, какое может быть искусство и информация, может быть, о художниках, – не только, например, о Парижской школе, о Модильяни…Стало известно и стало понятно, – или не стало понятно, это тоже большой вопрос – что искусство проделало большой путь во второй половине ХХ века. Это не всегда живопись, это не всегда даже такие проявления, которые мы видим сейчас на стенах, которые преимущественно живописные. Стало интересно иметь с этим дело, или вы продолжали игнорировать эту историю?
М. В.: Нет. Эту историю я не игнорировал. Но я на самом деле люблю живопись и считаю, что этот мир не исчерпаем. Я считаю, что это самое непосредственное, то есть, сделанное своими руками, послание в будущее человека. В отличии от текста: нам все равно, написан он или напечатан, это рукопись или книжка и т. д. Это то, что делается сейчас, погружается в прошлое и посылается в будущее; картинка имеет вот такие темпоральные свойства. Это всегда послание в будущее, любого художника. Мы очень много хулиганили в 90-е годы. Представьте себе, что нам почти даром достались какие-то холсты членов политбюро, и мы на Андреевском спуске поставили эти холсты вместе с Ваганом, и с Щербицкого делали Маркса: перерисовывали Маркса – перерисовали усы, бороды, написали: «Это Маркс?» И постепенно он превращался в Маркса, это был год 88-й. Сейчас бы из этого сделали целую проблему. Потом мы порезали эти холсты и сделали живопись. То есть мы относились к нашим выходкам довольно легкомысленно.
О. Б.: Но это осталось в вашей памяти.
М. В.: Да, я об этом и вспоминаю. Но я не понимаю – выдавать за искусство только жест? Как Лев Толстой писал: добродетель начинается там, где есть усилие. В этом смысле волк так же добродетелен, как и голубь. На мой взгляд, искусство начинается там, где есть усилие. Есть разные максимы. Гете писал, что искусство занимается тяжким и добрым. Я понимаю всю ее неполноту, но для меня она подходит. Мне многие вещи нравятся, я же не анахорет.
Вы рассуждаете, как художник, а я больше говорю, как историк искусства. Если посмотреть на выставку «Арт-Киев» – хотя она и претендует показать срез определенного периода украинского искусства, все же она далеко не репрезентативна. Есть множество вещей, такие вот «жесты», которые не имеют этого «на стену повесить», которые в таком случае из-за отсутствия музейных коллекций также остаются за кадром.
М. В.: Вы правильно говорите, но много живописи тоже остается за кадром. Например, была выставка Спецфонда в Художественном музее. Мне кажется, что после нее нужно всю парадигму украинского искусства пересмотреть из-за этого. Потому что так, как нас учили…Мы чуть-чуть знали, что были бойчукисты, потом Трофименко, Яблонская. Но когда я увидел выставку Спецфонда, я понял, что очень многого не знаю.
В то же время мы как будто начинаем расставлять: есть такая традиция, такая традиция и такая. Есть художники, а есть «не художники». Есть талантливые художники, есть менее талантливые художники. Искусство глубоко аксиологично по своей сути. Оно оценочно. Если я не могу сказать, пардон, что эта работа – говно, зачем вообще этим заниматься. Я – абсолютный противник такого общего подхода: есть то, что мне нравится, а это может быть картина, скульптура, концептуальный проект, что угодно. Но все это должно быть ко времени и замешано на основании усилия. Не знаю, можно ли описать линейно какую-то обязательность. Мне кажется, что я в работах эту обязательность в состоянии оценить.

О. Б.: А в это смысле тогда – из какого-то молодого поколения художников, которое уже очень давно отказалось от живописи или она уже не является для них основным медиумом, кто-то для вас интересен?
М. В.: Я не знаю!
О. Б.: То есть вы не следите за современными процессами?
М. В.: А за чем я могу следить? Знаете, мой друг как-то сказал мне после одного кинофестиваля: «Пойду посмотрю на неподвижные картинки». Вот я люблю неподвижные картинки. Они время в себе содержат.
О. Б.: Но все-таки есть кто-то, кто вам интересен из художников младшего поколения?
М. В.: Ну, все мы – младшее поколение. Я не очень хорошо знаю, к своему стыду…Вот Нико Пиросмани говорил, что живопись – это удар по глазам. Идешь, а тебя по глазам что-то ударило. Я собственно и по музеям так хожу. Меня жена ругает: «Что ты бегаешь, как оглашенный?» А я бегаю, а потом могу возвращаться, пока меня не стукнет – это может быть Пуссен, Хуан Миро. Для вас это, наверное, одного рода старики, только в разное время жившие. Я для себя открывал Бекона. Я открыт всему новому, поверьте мне. Мне очень интересно, например, что я завтра нарисую. То есть я знаю приблизительно – сегодня мне привезли шесть холстов, – нет, восемь, – и я буду рисовать грехи; я уже добродетели рисовал, теперь буду рисовать грехи. Если бы я знал, что я буду рисовать завтра, я бы перестал этим заниматься вовсе. Но я не очень люблю подмену понятий.
О. Б.: А музей современного искусства – вы говорите о Пуссене, это скорее всего Прада…
М. В.: Я был в Тейт в последний раз. Мое ощущение там – это пустота. Кроме увиденного мной Сигейроса. Я смотрю на Бойса, который специально для этого помещения делал свою инсталляцию. Мне скучно. Это такая ярмарка тщеславия и пустота. Эта пустота очень эстетична. Я – за концентрированные сгустки энергии, коими в некоторой мере являются живопись и скульптура. Человек это сделал, это сухой остаток. То же касается музыки, литературы. Это требует усилия, в том числе и умения, если хотите – языка. Ван Гог не потому Ван Гог, что он лучше всех подсолнухи нарисовал – хотя художники, настоящие художники меняют мир, это не метафора. Попробуйте посмотреть на подсолнухи глазами не Ван Гога. У меня не получается. Попробуйте посмотреть на кувшинки глазами не Моне. Художники меняют мир физически. Ле Корбюзье говорил, что его архитектура вышла из кубизма. Художники меняю взгляд на вещи.
О. Б.: То есть вам кажется, что история западного искусства, которая начинается в 60-е – это скорее свидетельство упадка?
М. В.: Она чрезвычайно интересна. Когда Дюшан выставил свой писсуар в 18-м году, это был чрезвычайный художественный жест. Когда он продал этот писсуар за миллион, это тоже допустимо. Но когда он пошел потом в магазин и купил еще восемь или семь за доллар таких же и снова их продавал – это уже другая история. Жест жесту рознь. На мой взгляд, произошла какая-то подмена. Могли бы назвать это уже не искусством, а придумать другое слово. Картинка – вещь совершенно неисчерпаема. Если человек увидел ее, то человека без нее не было.

О. Б.: Мы недавно разговаривали с Лесей Хоменко, – я преподаю еще в одной академии частной, – и там мы смотрели на работы студентов, часть из них была сделана в живописи. И вот как Леся очень правильно заметила, что невозможно сегодня двухмерным изображением каким-то образом воздействовать или как-то достучаться до человека. Мы уже не воспринимаем визуальной образ.
М. В.: Я с этим совершенно не согласен. Я знаю публику юную, которая ходит и смотрит, как вы говорите, на двухмерные картинки.
О. Б.: Просто произвести такой эффект, как производили работы Делакруа или того же Модильяни, сегодня не способны ни фотография, ни какое-либо изображение. Мы слишком привыкли к этим образам.
М. В.: Так случилось, что я нарисовал «Стену». Так вот люди, которые смотрели мою работу – некоторые из них уходили, потому что им становилось не по себе. Если вы говорите, как о максиме, о тезисе Леси Хоменко, то мне говорить здесь не о чем. Мне уже говорили когда-то, что живопись умерла. Я таких максим себе не позволяю. Я не собираюсь никого поражать. Я делаю то, что должен, а поражение уже зависит не от меня. Мне не надо указывать место, где я могу быть. Потому что я свое место даже сам не знаю. И ни один человек не может сказать, где место живописи. Поэзия не может поразить, роман не может поразить? Это всего лишь жанр, а в этом жанре можно быть великим, а можно быть графоманом. У меня с большинством современных работ сопряжения не возникает – термин такой у Толстого.
О. Б.: Вы использовали в своей художественной практике какие-то технические приспособления? То, что выходит за рамки холста?
М. В.: Скульптура – устраивает? Я могу станцевать сейчас! Мне хватает драйва, поверьте мне.
О. Б.: Поймите меня правильно: мне интересно узнать ваши взгляды на некоторые явления, тут у меня антропологический интерес, если можно так выразиться. Если вернуться к нашей теме – вы бы смогли дать какую-то дефиницию, свое понимание искусства?
М. В.: Я с этого начинал. Что это послание в будущее. Усилие и обязательность того, что ты делаешь.