Казимир Малевич: «Отцу было не особенно приятно мое тяготение к искусству»
У видавництві РОДОВІД виходить книжка автобіографічних текстів видатного мистця «Малевич. Автобіографічні записки 1918-1933». ArtUkraine, отримавши дозвіл на публікацію, ділиться уривком, в якому багато любові до Києва та міркувань про суть імпресіонізму.
Казимир Малевич залишив три окремі незавершені автобіографічні тексти – 1918, 1923-1925 та 1933 років. Описує в них свої відчуття та переживання дитячих і юнацьких років, що минули в Україні: народився художник у Києві, зростав на Поділлі, Харківщині та Чернігівщині, куди переїжджала родина вслід за батьком, інженером-цукровиком. Є в цих текстах і міркування й роздуми про проблеми мистецтва. Спогади мистця в Україні повністю виходять уперше у видавництві РОДОВІД. Упорядкувала тексти Анастасія Білоусова, а (пере)прочитали Євгенія Полосіна й Аня Іваненко із Сері/граф студії. Їхні ілюстрації «огорнули» автобіографічні тексти Малевича у формат артбуку.
Все сахарные заводы в то время имели раз в год связь с Киевом. В городе Киеве ежегодно устраивалась большая ярмарка, на которую приезжали из всех стран купцы. Съезжались и сахарозаводчики, или их управляющие, для заключения контрактаций и найма разных специалистов по сахароварению. Поэтому ярмарка называлась в общежитии – контрактами. Отец мой тоже приезжал на эти контракты, как высококвалифицированный сахаровар, и брал меня с собою. Таким образом, я знакомился с городом и его жизнью, а также с искусством, которое было выставлено в витринах магазинов канцелярских принадлежностей.
Меня мало интересовала ярмарка, хотя она была замечательная. Отец уходил по делам, а я бегал от магазина к магазину и смотрел подолгу картины. Таким образом, Киев мало-помалу становился новою средой, воздействующей на мою психику, и открывая новое бытие искусства.

Усі зображення надано видавництвом РОДОВІД
Я тогда ничего не понимал, не рассуждал о проблемах киевского искусства и искусства деревни, но чисто эмоционально воспринимал то и другое – с приятным волнением и большим желанием написать самому такую же картину. Я не знал, что существуют школы, в которых обучают рисованию и писанию картин, но думал, что и эти картины так же пишутся, как крестьяне пишут цветы, коников, петухов, без всякой грамоты и школы.
Но я чувствовал, что между киевским искусством и деревенским есть разница. Одна выставленная картина меня сильно поражала. В киевском искусстве все было изображено очень живо, натурально. На картине, которая меня заворожила, была изображена девушка, сидящая на лавке и чистящая картошку. Меня поразила правдоподобность картошки и очистков, которые ленточкой лежали на лавке возле бесподобно написанного горшка. Эта картина была для меня откровением, я ее помню и по сие время. Тревожила меня сильно техника выражения. Написать такую картину, хотя и было моим желанием, но я продолжал заниматься рисованием коников в духе примитивном, как это делали крестьянки, которые все умели рисовать цветы и делать росписи. Искусство принадлежало им больше чем мужчинам.

С каждым годом я все креп в этом деле и имел сильное тяготение к городу Киеву. Замечательным остался в моем ощущении Киев. Дома, построенные из цветных кирпичей, гористые места, Днепр, далекий горизонт, пароходы. Вся его жизнь на меня больше и больше воздействовала. Крестьянки на челночках переплывали Днепр, везли масло, молоко, сметану, заполняя берега и улицы Киева, придавая ему особенный колорит.
Отцу было не особенно приятно мое тяготение к искусству. Он знал, что существуют художники, пишущие картины, но никогда на эту тему не разговаривал. Он все же имел тенденцию, чтобы я шел по такой же линии, как и он. Отец говорил мне, что жизнь художников плоха и большая часть их сидит в тюрьмах, чего он и не хотел для своего сына.
Мать моя тоже занималась разными вышивками и плетением кружев. Я этому искусству у нее обучался и тоже вышивал и вязал крючком.
***
В своей студии-саду я продолжал работать импрессионизм. Я понял, что не в том суть в импрессионизме, чтобы тютелька в тютельку написать явления или предмета, но все дело заключается в чистой живописной фактуре, в чистом отношении всей моей энергии к явлениям, к одному только живописному их качеству, которое они носили или содержали. Все мое творчество было подобно ткачу, который ткет удивительную фактуру чистой ткани, с той только разницей, что я этой чистой живописной ткани придавал форму, вытекающую из эмоциональной потребности и качеств живописных, но не других. Я усвоил, что для живописца главным возбудителем всегда является одно живописное качество. Это его чистая культура, а все остальное есть привносное, есть то, что ему предлагают оформить. Например тема, которая имеет своей целью выразить, скажем, психологию позирующего человека живописными средствами, иллюстрировать философию мировоззрения, анекдоты быта, героику масс.
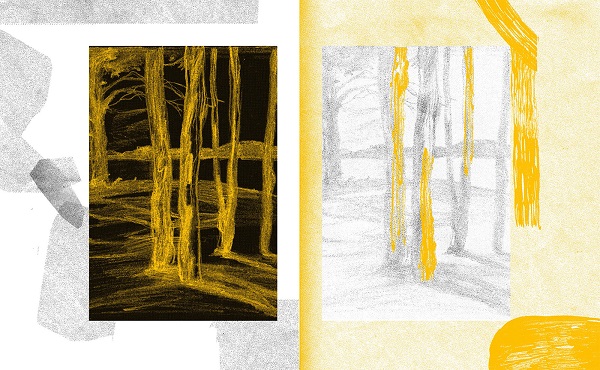
Я разделил эти две стороны искусства и определил, что искусство живописное вообще состоит из двух частей. Одна часть чистая – как таковое живописное чистое формирование, другая часть, состоящая из темы предметной, называемой содержанием. Вместе они составляли эклектически искусство, помесь живописи с не живописью. Действительность для меня стала не тем явлением, которое нужно с точностью передать, но явлением чисто живописным. Поэтому все другие качества предмета не играли главной роли и выявлялись постольку, поскольку их контуры не могли быть совершенно переработаны живописным творчеством в живописный вид. Работая над импрессионизмом, я узнал, что в задачу импрессионизма никогда не входил предметный образ. Если он сохранил еще свое подобие, то только потому, что живописец еще не знал той формы, которая бы представляла живопись «как таковую», не вызывала бы ассоциации о природе и предметах, ничего не говорила бы о правде предметной, об иллюзиях, не была бы иллюстрацией, рассказом, но была бы совершенно новым творческим фактом, новой действительностью, новой правдой.

Импрессионизм меня привел к тому, что я вновь увидел природу новыми глазами и она во мне вызывала новые реакции, зажигала мою духовную энергию к творчеству, к работе над совершенно другой стороной явления.
Анализируя свое поведение, я заметил, что, собственно говоря, идет работа над высвобождением живописного элемента из контуров явлений природы и освобождением моей живописной психики от предмета. Но приходила и другая мысль, и другое чувство, которое как бы пугалось такого вида живописи, которое спрашивало, а в какую форму, освобожденную из контуров предмета, живопись вложить и можно ли найти такую форму?








