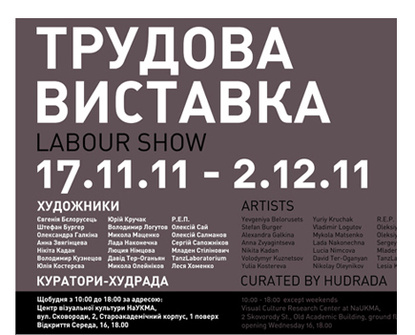Мемуар об одесских 90-х
Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.
Осип Мандельштам. 1920
I
Обычно принято ностальгировать по молодости. Для меня 90-е - это промежуток между 36-ю и 46-ю годами. А «ностальгия по зрелости» как-то не звучит. Впрочем, и нет у меня такой ностальгии.
Меня попросили написать коротко, но, во-первых, я так не умею, а, во-вторых, ужать десять лет в три страницы нереально.
Просто несколько эпизодов (причем, преимущественно о себе в определенном времени) потому что о других я уже писал неоднократно.
Конечно, 90-е начались во второй половине 80-х в комплекте с perestroika и glasnost. В это время я был вполне такой советский служащий в выставочном отделе Одесского художественного музея. Из этого времени мне запомнились только несколько проектов. Первый – «ярмарка искусств» в курдонере Одесского художественного музея. Проект замутила Светлана Остапова, зав. массовым отделом, и цель его была самая простая – легализация свободной продажи художественной продукции. Реализовать это было непросто – потребовалось особое разрешение обкома партии. Но получилось вполне весело, хотя многие «андеграундники» отнеслись к мероприятию весьма недоверчиво. Я уже не говорю о руководстве местного Союза художников, крайне озабоченном неправильным удовлетворением эстетических потребностей населения. Согласие-то они дали (против обкома не попрешь!), но худсовет все-таки наличествовал – слава богу, более или менее либеральный.

Феликс Кохрихт, Уте Кильтер
Второй проект – «Выставка 4-х художников». Не могу сказать, что главная его цель была легализация и музеефикация одесского андеграунда, хотя отчасти присутствовало и это. Главное, все-таки, создание единого пространства из работ очень разных художников; разных в стилевом отношении, разных по мировоззрению, социальному статусу, этнической принадлежности, в конце концов. Мы очень гордились этой выставкой Олега Волошинова, Юрия Коваленко, Иосифа Островского и Евгения Рахманина, в целом благоприятно принятой «одесской интеллигенцией» (значительное количество работ после выставки было закуплено в коллекцию музея и до сих пор представляется в постоянной экспозиции). Кстати, во время работы этой выставки я познакомился с уже легендарным Сергеем Ануфриевым. Он пришел не просто так, а как инспектор «Медгерменевтики». И расставил оценки. На полном серьезе. За концепцию, за экспозицию, еще за что-то. В основном, тройки и двойки.
Ну и третий проект, в общем-то «заступивший» в искомые 90-е – это две выставки «После модернизма» 89-го и 90-го года. То, что сейчас называют «новой украинской волной» или украинским трансавангардом. Тоже четыре автора: Александр Ройтбурд (инициатор и, по сути, куратор), Сергей Лыков, Василий Рябченко и Алена Некрасова. Во время монтажа выставки между мной и директором музея произошел неприятный инцидент. Я уже тогда понял, что в рамках нашего замечательного Художественного музея мне уже как-то скучно.
Кстати, почти везде, где я пишу «я», следует читать: я вместе с Галиной Богуславской – женой, единомышленником, коллегой по Художественному музею до 1996 года.
В 1992 году начал работать «Тирс», вначале – как Музей современного искусства во главе с президентом Феликсом Кохрихтом и куратором Ритой Жарковой. Я туда просто «захаживал» на выставки, изредка – на чаепития, которые устраивала Рита, потом немного подрабатывал (как музейщику мне дали подряд на заполнение каталожных карточек). В 1993 в московском «Художественном журнале» опубликовали мою статью «Одесский пасьянс», которая, как я полагаю, впоследствии стала пропуском на большую конференцию в Киеве по поводу учреждения там Центра современного искусства Сороса.
К концу 93-го Александр Ройтбурд, уже давно вышедший на всеукраинскую (и, отчасти, на московскую) сцену, инициировал учреждение в Одессе общественной организации. И меня избрали председателем правления ассоциации «Новое искусство». Очевидно, потому, что я, с опытом работы в государственном музее и с некоторыми знаниями об искусстве вообще и о современном, в частности, был наиболее оптимальным медиатором между художниками и социумом.

Слева направо: Семен Калика, Михаил Рашковецкий, Феликс Кохрихт, Александр Ройтбурд
Здесь необходимо сделать одно теоретическое отступление, хотя его я уже неоднократно излагал. Я полностью согласен с утверждением о том, что революция 1917 года (вместе с ее последствиями) стала основным историческим событием ХХ века. События второй половины 80-х, завершившиеся путчем и развалом СССР в 1991-м, соответственно, коренным образом изменили ход всей мировой истории, не говоря уже о судьбе постсоциалистических и постсоветских государств.
Произошла подлинная революция, причем, преимущественно «сверху», со всеми закономерными и в чем-то катастрофичными последствиями, характерными для революций вообще.
И так же, как и в Российской империи начала ХХ века, мы оказались в ситуации «многоукладности». Каким-то чудовищным образом, пусть и в разных пропорциях, у нас сосуществовали реалии доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ. Соответственно, до сих пор в своих непримиримых противоречиях сосуществуют и концепции нашего бытия и бытования. Contemporary art является детищем (или прародителем) постиндустриального мира и менталитета. Отчасти, как и значение «гражданскоо общества». Ассоциация «Новое искусство» ставила перед собой не просто художественные задачи, но и цель реорганизации локального социума. Конечно, при наличии всех родимых пятен феодализма, социализма и дикого капитализма эпохи первоначального накопления. Например, такого, как необходимость создания общественной организации для грядущего получения зарубежных грантов.
История первого этапа деятельности ассоциации в центре современного искусства «Тирс» (конец 1993-первая половина 1994) описана в статье «Одесский эксперимент» и научила меня следующему: для эффективной работы необходима последовательность и системность при сохранении атмосферы борьбы и единства противоречий. За короткое время ассоциация объединила большинство художников и кураторов, интересующихся «неформатной» в старом понимании художественной деятельностью. В нее вошли и совсем молодые художники (Игорь Гусев, Мирослав Кульчицкий, Вадим Чекорский, Андрей Казанджий, Эдуард Колодий, Виктор Ходзинский, Анатолий Ганкевич, Олег Мигас и др.) и вполне опытные (Василий Рябченко, Сергей Лыков, Дмитрий Орешников, Михаил Рева), коллективными членами стало Творческое объединение художников (ТОХ) и «Лига уровень 14» (Уте Кильтер, Виктор Маляренко). В число членов-учредителей входили и композитор Кармела Цепколенко и журналистка первого в Одессе негосударственного телеканала «Арт» Великанова. В роли кураторов в ассоциации выступали Александр Ройтбурд, Вадим Беспрозванный, Маргарита Жаркова, Михаил Рашковецкий, Кульчицкий&Чекорский, с 1995 года – Елена Михайловская, еще позже – Андрей Тараненко и др. Не буду описывать все многочисленные внутренние конфликты и противостояния в нашем в общем-то немногочисленном сообществе, тем более, что они невооруженным глазом видны в текстах «Портфолио». Но пока была возможность уравновешивать центробежные настроения центростремительными – сообщество оказывалось весьма продуктивным.
II
К 1994 году я поставил крест на своей аспирантуре при петербургской Академии художеств: нужно было выбирать, а в Одессе мне было интереснее и, кроме того, усилилось ощущение того, что Москва и Петербург – это уже совсем другая страна.
В результате полугодичного эксперимента летом 1994 года в Одессе удалось реализовать первый масштабный проект фестивального типа «Свободная зона». Однако, в целом, системность процесса была во многом утрачена в связи с отсутствием постоянного места экспонирования. Основным тусовочным офисом служила квартира Ройтбурда (впрочем, это было так и во времена существования «Тирса»), вспомогательным (полуподпольным) – кабинет отдела выставочной работы Художественного музея, где я продолжал работать. Именно в этом кабинете раз в неделю Ройтбурд проводил многочасовые лекции по истории и теории современного искусства. Набивалось 15-20, как я их называл, «младогегельянцев»: некоторые – студенты художественного училища и худграфа педина, другие – без всякого художественного образования. Помню ребят, тащивших на занятия огромные стопки зарубежных альбомов и каталогов из квартиры Ройтбурда, благо она была недалеко. На одно из таких занятий зашел Леонид Войцехов – гуру группы одесских концептуалистов предыдущей генерации. В это время Войцехов занимался своим очередным грандиозным проектом (кажется, еврейским музеем СНГ), в Одессе бывал периодами. Внимание ребят к лекции Ройтбурда, как мне показалось, впечатлило Войцехова, и в перерыве он стал настойчиво предлагать Ройтбурду бросить художественную деятельность и заняться религиозной. «Ты же пгосто пгогок!», – вещал Леонид, – «Ты можешь стать цадик поколения!». Ройтбурд вежливо отказывался от такого предложения, ссылаясь на свой агностицизм, наконец, решил прикрыться авторитетом: «Леня, в конце-концов, Ницше сказал, что бог умер» – «Бог умег? Ну, и х..й с ним! Но дело его живет!». На этом перерыв окончился, Войцехов пошел не реализовывать свои проекты, а Ройтбурд вернулся к слушателям.
Меня иногда спрашивают, как мы выживали в это время. На жизнь нам с Галиной хватало музейной зарплаты, учитывая наши скромные потребности. Изредка случались подработки в виде мелкого дилерства. Параллельно около двух лет я подрабатывал в должности директора в частной одесской Академии художеств «имени Леонардо да Винчи». Там преподавали ведущие одесские живописцы, графики и скульпторы, получившие образование в ведущих художественных учебных заведениях Москвы и Ленинграда. Ректором работал Юрий Егоров, мой самый любимый одесский живописец старшего поколения. Но я чувствовал себя абсолютно чужим на этом академическом празднике жизни. Собственно директорские функции выполняла владелец (официально – президент) Жанна Перекрестова. Моя должность вызывала у меня смутные ассоциации с зиц-председателем Фунтом, особенно, когда приходилось подписывать какие-то непонятные финансовые документы. На деле я выполнял обязанности «воспитателя»: вел душеспасительные беседы со студентами и по мере своих слабых сил соблазнял их прелестями современного искусства – впрочем, безуспешно.

Слева направо: Роман Бродавко, Александр Ройтбурд, Феликс Кохрихт, Александр Прокопенко
Около двух лет я подрабатывал «завотделом искусств» в одесской конторе фонда Кравчука под руководством Ройтбурда, снимавшего под офис флигель Литературного музея.
Самое интересное – работа с проектами современного искусства – особого дохода не приносила, хотя, собирая на их реализацию деньги, мы всегда старались выделить какую-то часть на кураторство. Но в основном это была обыденная организационная работа, занимавшая большую часть времени и усилий. Позднее, когда уже появился ЦСИ Сороса с настоящим офисом, Ройтбурд регулярно издевался над толстым фолдером с названием «Текущее». Причем, он иронизировал не только над филологическим аспектом такого названия, но и над концептуальным. А я до сих пор уверен, что без такого «текущего» одесское движение современного искусства 90-х не состоялось бы как движение.
Помимо внутренних противоречий это движение находилось в, мягко говоря, сложных отношениях с поколением «нонконформистов» 60-х-70-х годов и «одесской интеллигенцией», не воспринимавшей нашу деятельность как искусство. Группа одесских концептуалистов в основном видела свою перспективу в Москве и далее, хотя и Войцехов и, особенно, Сергей Ануфриев время от времени «наезжали». Совсем тяжкими были контакты с госучреждениями культуры: все-таки мы позиционировали себя не как андеграунд и были вынуждены контактировать с властью, пусть уже не советской, но очень постсоветской. Пытаясь создать относительно постоянную финансовую базу для реализации наших проектов, Александр Ройтбурд инициировал учреждение одесского филиала фонда Кравчука, но там все усилия уходили на открытие бизнеса, часть прибыли которого впоследствии могла идти на искусство. Однако почти одновременно с завершением подготовительной фазы этого дела фонду было отказано в льготах, без которых не было смысла этим бизнесом заниматься. В 1995 году был проведен проект «Синдром Кандинского», ставший своеобразным завершением определенного этапа в нашей деятельности. По завершении этой выставки я крупно (и не в первый раз) разругался с Ройтбурдом и надолго отстранился и от «текущего», и от глобального.
Честно говоря, я отчаивался после каждого крупного проекта. Отчаяние – вот, пожалуй, мое самое сильное ощущение от 90-х. В отличие от нынешнего уныния. Помню страшную ночь перед открытием «Свободной зоны» в Художественном музее. Перед этим, заранее, я потратил много усилий и времени ни заготовку материалов для будущей экспозиции. В концепции звучало слово «лестница», и мы арендовали и натащили в музей кучу веревочных трапов, узловатых «концов», сетей и еще чего-то из складов уже разворованного пароходства. Я предполагал использовать все это для инсталлирования пространства. Но руки не дошли. Дело в том, что работы большинства одесских участников были смонтированы заранее. Но многие иногородние художники должны были привезти все свое утром за день до открытия. Однако не привезли: закинули вещи в гостинице, где для них были забронированы места, и пошли на пляж. Мол, завезем к вечеру, когда жара спадет. А вечером музей закрыт, на вечерние и ночные работы для милиции нужно специальное разрешение дирекции с фамилиями работающих. Короче говоря, мы вдвоем с Галиной Богуславской всю ночь монтировали экспозицию, и было уже не до трапов (только один использовали для монтажа «Муравьев» Сени Узенькие Глазки). Я помню свое чувство ненависти к свободным художникам в эту ночь, помню тупое «делай, что должно» и почему-то – образ слепой лошади в шахте, идущей по бесконечному кругу. Кстати, мало кто из художников сказал кураторам спасибо за этот проект, в основном предъявлялись претензии. Только лет пять спустя Борис Михайлов очень серьезно поблагодарил одесситов за первый показ своих работ в музейном пространстве (это была серия фото «Я – не я»). Он-то хорошо понимал, что значит бесцензурная «Свободная зона» в государственном учреждении культуры.
ІІІ
Я, вообще-то, довольно компромиссный человек. Не радикал. Но хорошо помню, как меня неоднократно выгоняли с работы. С шумом, треском, с криками «Чтоб ноги твоей здесь не было».
Один раз – после открытия «Свободной зоны», когда директор Худмузея, вернувшаяся из отпуска, увидела все это безобразие. Тогда меня спас Ройтбурд, срочно доставивший в музей гостившую у него Сильвию Хоквилд, главного редактора Art News. Сильвия поговорила с нашим директором как светская дама со светской дамой, и все обошлось. Второй раз меня с топаньем ногами выгнал из фонда Кравчука сам Ройтбурд. Третий раз, – с киданием и ломанием стула о пол, – директорша одесского фонда «Відродження». И каждый раз я отчаивался.
В 1996 году я сам уволился из Художественного музея и стал координатором одесского отделения фонда «Відродження» с главным заданием – руководить пилотным проектом «Центр современного искусства». Оттуда меня вскоре вышибли, но спустя некоторое время опять наняли в связи с инициированием уже не «пилотного», а обычного ЦСИ Сороса (Одесса), о чем хлопотал Константин Акинша и руководитель всей сети ЦСИ Даяна Вайерман.
Помню первую встречу с Даяной. Меня вытащил из дому все тот же Ройтбурд, с которым я примирился незадолго до этого. Дома я лежал с насморком, температурой, без работы и без перспективы. «Срочно приезжай, возьми с собой портфолио ассоциации, тут такой человек приехал…», – взволнованно сказал Александр Анатольевич. Я отреагировал с вялой злобой, потому что уже много раз ездил «к таким людям» с нашими фотографиями, афишками, газетными и журнальными вырезками. И без всякого толку. Но все же приехал в Литмузей, злой и небритый. Там уже были Ройтбурд, Акинша и Даяна. Я швырнул ей папки. Она начала листать и я вдруг осознал, что она понимает, чем мы занимались. До этого из потенциальных «доноров» такое понимание я встречал только один раз – у другой американки, Марты Кузьмы, первого директора ЦСИ Сороса (Киев). «Это как раз то, что мы ищем», – сказала Даяна, и спустя 9 месяцев, в апреле 1997 года, несмотря на некоторое сопротивление самого фонда «Відродження», состоялось открытие «одесского Сороса» (куратором первого проекта под названием «Новый файл» стала Лена Михайловская, которую мы выманили из Ивано-Франковска еще в 1995 году).

С самим Джорджем Соросом я общался только два раза. Впервые, во время презентации киевского ЦСИ. В большом зале стояла огромная очередь деятелей искусства, подходивших к выдающемуся спекулянту и филантропу и просивших денег на проекты. Я невольно вспомнил булгаковский бал с шествием к Воланду. Когда очередь дошла до меня, я просто спросил, не тяжело ли г-ну Соросу выслушивать так много просьб о деньгах. Тут он как-то оживился и стал быстро объясняться, мол, в этом современном искусстве он ничего не понимает и ничего не решает, все решают специалисты, наблюдательные советы и т.п. Я ему посочувствовал.
Второй раз беседа состоялась в одной из восточноевропейских столиц во время очередной встречи директоров всех соросовских ЦСИ. К этому времени уже было ясно, что Сорос сворачивает финансирование своих фондов и, в частности, центров современного искусства.
Я сказал, что для Одессы он должен сделать исключение. Это самый молодой центр, не столичный, с большими проблемами в фандрайзинге проектов современного искусства. Мы сможем попытаться построить систему самофинансирования, но для этого нужна серьезная систематическая работа как минимум на семь лет. Из них мы использовали только два года. Этого мало, без поддержки движение заглохнет. В этом случае не нужно было и начинать финансирование одесского ЦСИ. Пусть все бы шло, как шло, естественным, как говорится, путем. И напомнил, что первый «годовой» проект одесского центра назывался «Неестественный отбор».
Тем не менее, и сейчас уверен в том, что спад активности современного искусства и в Одессе, и в остальной Украине был определен не сокращением внешнего финансирования, а завершением революционного периода. Иллюзорная стабильность не нуждалась в такого рода деятельности. За это мы расплачиваемся сегодняшней ситуацией. А тогда у представителей современного искусства было всего два пути – или экспортироваться, что было крайне непросто, или искать иную профессию – от дизайнера до коммерческого художника при появляющихся галереях. Я же в 2000-м ушел делать одесский еврейский музей.

Слева направо: Феликс Кохрихт, Маргарита Жаркова, Георгий Котов
Одним из исторических значений слова «лихие» является понятие «лишние». Помню, как на одном из семинаров ассоциации я сделал доклад, пытаясь заинтересовать художников и кураторов релациональной эстетикой Буррио. Кульчицкого и Чекорского на этом семинаре не было. Мирослав узнал от меня об этом докладе только незадолго до ухода. Получается, такой доклад оказался «лишним».
Однако я по-прежнему говорю: «Ничто не проходит бесследно» (хотя рукописи, конечно, горят). Одесские 90-е, безусловно, стали одной из самых значимых составляющих истории новейшего украинского искусства. Хотя эта история по-настоящему еще не написана, и неизвестно, будет ли написана в ближайшее время.
Фото – со страницы Музея современного искусства Одессы в Facebook
***
Михаил Рашковецкий – арт-критик, куратор.